Живые и мертвые пленники на земле читать. Живые и мертвые
Константин Михайлович Симонов
«Живые и мёртвые»
Двадцать пятого июня 1941 г. Маша Артемьева провожает своего мужа Ивана Синцова на войну. Синцов едет в Гродно, где осталась их годовалая дочь и где сам он в течение полутора лет служил секретарём редакции армейской газеты. Находящийся недалеко от границы, Гродно с первых же дней попадает в сводки, и добраться до города не представляется возможным. По дороге в Могилев, где находится Политуправление фронта, Синцов видит множество смертей, несколько раз попадает под бомбёжку и даже ведёт протоколы допросов, учиняемых временно созданной «тройкой». Добравшись до Могилева, он едет в типографию, а на следующий день вместе с младшим политруком Люсиным отправляется распространять фронтовую газету. У въезда на Бобруйское шоссе журналисты становятся свидетелями воздушного боя тройки «ястребков» со значительно превосходящими силами немцев и в дальнейшем пытаются оказать помощь нашим лётчикам со сбитого бомбардировщика. В результате Люсин вынужден остаться в танковой бригаде, а получивший ранение Синцов на две недели попадает в госпиталь. Когда он выписывается, выясняется, что редакция уже успела покинуть Могилев. Синцов решает, что сможет вернуться в свою газету, только имея на руках хороший материал. Случайно он узнает о тридцати девяти немецких танках, подбитых в ходе боя в расположении полка Федора Федоровича Серпилина, и едет в 176-ю дивизию, где неожиданно встречает своего старого приятеля, фоторепортёра Мишку Вайнштейна. Познакомившись с комбригом Серпилиным, Синцов решает остаться у него в полку. Серпилин пытается отговорить Синцова, поскольку знает, что обречён на бои в окружении, если в ближайшие часы не придёт приказ отступать. Тем не менее Синцов остаётся, а Мишка уезжает в Москву и по дороге погибает.
…Война сводит Синцова с человеком трагической судьбы. Серпилин закончил гражданскую войну, командуя полком под Перекопом, и до своего ареста в 1937 г. читал лекции в Академии им. Фрунзе. Он был обвинён в пропаганде превосходства фашистской армии и на четыре года сослан в лагерь на Колыму.
Однако это не поколебало веры Серпилина в советскую власть. Все, что с ним произошло, комбриг считает нелепой ошибкой, а годы, проведённые на Колыме, бездарно потерянными. Освобождённый благодаря хлопотам жены и друзей, он возвращается в Москву в первый день войны и уходит на фронт, не дожидаясь ни переаттестации, ни восстановления в партии.
176-я дивизия прикрывает Могилев и мост через Днепр, поэтому немцы бросают против неё значительные силы. Перед началом боя в полк к Серпилину приезжает комдив Зайчиков и вскоре получает тяжёлое ранение. Бой продолжается три дня; немцам удаётся отрезать друг от друга три полка дивизии, и они принимаются уничтожать их поодиночке. Ввиду потерь в командном составе Серпилин назначает Синцова политруком в роту лейтенанта Хорышева. Прорвавшись к Днепру, немцы завершают окружение; разгромив два других полка, они бросают против Серпилина авиацию. Неся огромные потери, комбриг решает начать прорыв. Умирающий Зайчиков передаёт Серпилину командование дивизией, впрочем, в распоряжении нового комдива оказывается не более шестисот человек, из которых он формирует батальон и, назначив Синцова своим адъютантом, начинает выходить из окружения. После ночного боя в живых остаётся сто пятьдесят человек, однако Серпилин получает подкрепление: к нему присоединяется группа солдат, вынесших знамя дивизии, вышедшие из-под Бреста артиллеристы с орудием и маленькая докторша Таня Овсянникова, а также боец Золотарев и идущий без документов полковник Баранов, которого Серпилин, невзирая на былое знакомство, приказывает разжаловать в солдаты. В первый же день выхода из окружения умирает Зайчиков.
Вечером 1 октября руководимая Серпилиным группа с боями прорывается в расположение танковой бригады подполковника Климовича, в котором Синцов, вернувшись из госпиталя, куда отвозил раненого Серпилина, узнает своего школьного приятеля. Вышедшие из окружения получают приказ сдать трофейное оружие, после чего их отправляют в тыл. На выезде на Юхновское шоссе часть колонны сталкивается с немецкими танками и бронетранспортёрами, начинающими расстреливать безоружных людей. Через час после катастрофы Синцов встречает в лесу Золотарева, а вскоре к ним присоединяется маленькая докторша. У неё температура и вывих ноги; мужчины по очереди несут Таню. Вскоре они оставляют её на попечение порядочных людей, а сами идут дальше и попадают под обстрел. У Золотарева не хватает сил тащить раненного в голову, потерявшего сознание Синцова; не зная, жив или мёртв политрук, Золотарев снимает с него гимнастёрку и забирает документы, а сам идёт за подмогой: уцелевшие бойцы Серпилина во главе с Хорышевым вернулись к Климовичу и вместе с ним прорываются через немецкие тылы. Золотарев собирается пойти за Синцовым, но место, где он оставил раненого, уже занято немцами.
Тем временем Синцов приходит в сознание, но не может вспомнить, где его документы, сам ли в беспамятстве снял гимнастёрку с комиссарскими звёздами или же это сделал Золотарев, посчитав его мёртвым. Не пройдя и двух шагов, Синцов сталкивается с немцами и попадает в плен, однако во время бомбёжки ему удаётся бежать. Перейдя линию фронта, Синцов выходит в расположение стройбата, где отказываются верить его «басням» об утерянном партбилете, и Синцов решает идти в Особый отдел. По дороге он встречает Люсина, и тот соглашается довезти Синцова до Москвы, пока не узнает о пропавших документах. Высаженный недалеко от КПП, Синцов вынужден самостоятельно добираться до города. Это облегчается тем, что 16 октября в связи с тяжёлым положением на фронте в Москве царят паника и неразбериха. Подумав, что Маша может все ещё находиться в городе, Синцов идёт домой и, никого не застав, валится на тюфяк и засыпает.
…С середины июля Маша Артемьева учится в школе связи, где её готовят к диверсионной работе в тылу у немцев. 16 октября Машу отпускают в Москву за вещами, так как вскоре ей предстоит приступить к выполнению задания. Придя домой, она застаёт спящего Синцова. Муж рассказывает ей обо всем, что с ним было за эти месяцы, о всем том ужасе, который пришлось пережить за семьдесят с лишним дней выхода из окружения. На следующее утро Маша возвращается в школу, и вскоре её забрасывают в немецкий тыл.
Синцов идёт в райком объясняться по поводу своих утраченных документов. Там он знакомится с Алексеем Денисовичем Малининым, кадровиком с двадцатилетним стажем, готовившим в своё время документы Синцова, когда того принимали в партию, и пользующимся в райкоме большим авторитетом. Эта встреча оказывается решающей в судьбе Синцова, поскольку Малинин, поверив его рассказу, принимает в Синцове живейшее участие и начинает хлопотать о восстановлении того в партии. Он предлагает Синцову записаться в добровольческий коммунистический батальон, где Малинин старший в своём взводе. После некоторых проволочек Синцов попадает на фронт.
Московское пополнение отправляют в 31-ю стрелковую дивизию; Малинина назначают политруком роты, куда по его протекции зачисляют Синцова. Под Москвой идут непрерывные кровопролитные бои. Дивизия отступает с занимаемых позиций, однако постепенно положение начинает стабилизироваться. Синцов пишет на имя Малинина записку с изложением своего «прошлого». Этот документ Малинин собирается представить в политотдел дивизии, а пока что, пользуясь временным затишьем, он идёт к своей роте, отдыхающей на развалинах недостроенного кирпичного завода; в расположенной неподалёку заводской трубе Синцов по совету Малинина устанавливает пулемёт. Начинается обстрел, и один из немецких снарядов попадает внутрь недостроенного здания. За несколько секунд до взрыва Малинина засыпает обвалившимися кирпичами, благодаря чему он остаётся жив. Выбравшись из каменной могилы и откопав единственного живого бойца, Малинин идёт к заводской трубе, у которой уже целый час слышится отрывистый стук пулемёта, и вместе с Синцовым отражает одну за другой атаки немецких танков и пехоты на нашу высоту.
Седьмого ноября на Красной площади Серпилин встречает Климовича; этот последний сообщает генералу о гибели Синцова. Однако Синцов тоже принимает участие в параде по случаю годовщины Октябрьской революции — их дивизию пополнили в тылу и после парада перебрасывают за Подольск. За бой на кирпичном заводе Малинина назначают комиссаром батальона, он представляет Синцова к ордену Красной Звезды и предлагает написать заявление о восстановлении в партии; сам Малинин уже успел сделать через политотдел запрос и получил ответ, где принадлежность Синцова к партии подтверждалась документально. После пополнения Синцова зачисляют командиром взвода автоматчиков. Малинин передаёт ему характеристику, которую следует приложить к заявлению о восстановлении в партии. Синцов проходит утверждение на партбюро полка, однако дивизионная комиссия откладывает решение этого вопроса. У Синцова происходит бурный разговор с Малининым, и тот пишет резкое письмо о деле Синцова прямо в политотдел армии. Командир дивизии генерал Орлов приезжает вручать награды Синцову и другим и вскоре погибает от разрыва случайной мины. На его место назначают Серпилина. Перед отъездом на фронт к Серпилину приходит вдова Баранова и просит сообщить подробности смерти мужа. Узнав, что сын Барановой идёт добровольцем мстить за отца, Серпилин говорит, что её муж пал смертью храбрых, хотя на самом деле покойный застрелился во время выхода из окружения под Могилёвом. Серпилин едет в полк Баглюка и по дороге проезжает мимо идущих в наступление Синцова и Малинина.
В самом начале боя Малинин получает тяжёлое ранение в живот. Он даже не успевает толком проститься с Синцовым и рассказать о своём письме в политотдел: возобновляется бой, а на рассвете Малинина вместе с другими ранеными вывозят в тыл. Однако Малинин и Синцов зря обвиняют дивпарткомиссию в проволочке: партийное дело Синцова запросил инструктор, ранее ознакомившийся с письмом Золотарева об обстоятельствах гибели политрука Синцова И. П. , и теперь это письмо лежит рядом с заявлением младшего сержанта Синцова о восстановлении в партии.
Взяв станцию Воскресенское, полки Серпилина продолжают движение вперёд. Ввиду потерь в командном составе Синцов становится командиром взвода.
Книга вторая. Солдатами не рождаются
Новый, 1943 г. Серпилин встречает под Сталинградом. 111-я стрелковая дивизия, которой он командует, уже шесть недель как окружила группировку Паулюса и ждёт приказа о наступлении. Неожиданно Серпилина вызывают в Москву. Эта поездка вызвана двумя причинами: во-первых, планируется назначить Серпилина начальником штаба армии; во-вторых, его жена умирает после третьего инфаркта. Приехав домой и расспросив соседку, Серпилин узнает, что перед тем как Валентина Егоровна заболела, к ней приходил её сын. Вадим был неродным для Серпилина: Федор Федорович усыновил пятилетнего ребёнка, женившись на его матери, вдове своего друга, героя гражданской войны Толстикова. В 1937-м, когда Серпилина арестовали Вадим отрёкся от него и принял фамилию настоящего отца. Отрёкся он не потому, что действительно считал Серпилина «врагом народа», а из чувства самосохранения, чего так и не смогла простить ему мать. Возвращаясь с похорон, Серпилин сталкивается на улице с Таней Овсянниковой, находящейся в Москве на лечении. Она рассказывает что после выхода из окружения партизанила и была в подполье в Смоленске. Серпилин сообщает Тане о гибели Синцова. Накануне отъезда сын просит его разрешения перевезти в Москву из Читы жену и дочь. Серпилин соглашается и, в свою очередь, велит сыну подать рапорт об отправке на фронт.
Проводив Серпилина, подполковник Павел Артемьев возвращается в Генштаб и узнает, что его разыскивает женщина по фамилии Овсянникова. Надеясь получить сведения о сестре Маше, Артемьев едет по указанному в записке адресу, в дом, где до войны жила женщина, которую он любил, однако сумел забыть, когда Надя вышла замуж за другого.
…Война началась для Артемьева под Москвой, где он командовал полком, а до этого он с 1939 г. служил в Забайкалье. В Генштаб Артемьев попал после тяжёлого ранения в ногу. Последствия этого ранения все ещё дают о себе знать, однако он, тяготясь своей адъютантской службой, мечтает поскорее вернуться на фронт.
Таня сообщает Артемьеву подробности смерти его сестры, о гибели которой он узнал ещё год назад, хотя не переставал надеяться на ошибочность этих сведений. Таня и Маша воевали в одном партизанском отряде и были подругами. Они сблизились ещё сильнее, когда выяснилось, что Машин муж Иван Синцов вынес Таню из окружения. Маша пошла на явку, однако в Смоленске так и не появилась; позже партизаны узнали о её расстреле. Таня также сообщает о смерти Синцова, которого Артемьев давно пытается разыскать. Потрясённый рассказом Тани, Артемьев решает помочь ей: обеспечить продуктами, попытаться достать билеты до Ташкента, где живут в эвакуации Танины родители. Выходя из дома, Артемьев встречает успевшую уже овдоветь Надю, а вернувшись в Генштаб, в очередной раз просит об отправке на фронт. Получив разрешение и надеясь на должность начальника штаба или командира полка, Артемьев продолжает заботиться о Тане: отдаёт ей Машины наряды, которые можно будет обменять на еду, организует переговоры с Ташкентом, — Таня узнает о смерти отца и гибели брата и о том, что её муж Николай Колчин находится в тылу. Артемьев отвозит Таню на вокзал, и, расставаясь с ним, она вдруг начинает чувствовать к этому одинокому, рвущемуся на фронт человеку нечто большее, чем просто благодарность. А он, удивившись этой внезапной перемене, задумывается над тем, что ещё раз, бессмысленно и неудержимо, пронеслось его собственное счастье, которое он опять не узнал и принял за чужое. И с этими мыслями Артемьев звонит Наде.
…Синцов был ранен через неделю после Малинина. Ещё в госпитале он начал наводить справки о Маше, Малинине и Артемьеве, но так ничего и не узнал. Выписавшись, он поступил в школу младших лейтенантов, воевал в нескольких дивизиях, в том числе в Сталинграде, вступил заново в партию и после очередного ранения получил должность комбата в 111-й дивизии, вскоре после того, как из неё ушёл Серпилин.
Синцов приходит в дивизию перед самым началом наступления. Вскоре его вызывает к себе комиссар полка Левашов и знакомит с журналистами из Москвы, в одном из которых Синцов узнает Люсина. В ходе боя Синцов получает ранение, однако комдив Кузьмич заступается за него перед командиром полка, и Синцов остаётся на передовой.
Продолжая думать об Артемьеве, Таня приезжает в Ташкент. На вокзале её встречает муж, с которым Таня фактически разошлась ещё до войны. Считая Таню погибшей, он женился на другой, и этот брак обеспечил Колчину броню. Прямо с вокзала Таня идёт к матери на завод и там знакомится с парторгом Алексеем Денисовичем Малининым. После своего ранения Малинин девять месяцев провёл в госпиталях и перенёс три операции, однако его здоровье подорвано окончательно и о возвращении на фронт, о чем так мечтает Малинин, не может быть и речи. Малинин принимает в Тане живейшее участие, оказывает помощь её матери и, вызвав к себе Колчина, добивается его отправки на фронт. Вскоре Тане приходит вызов от Серпилина, и она уезжает. Придя к Серпилину на приём, Таня встречает там Артемьева и понимает, что ничего, кроме дружеских чувств, тот к ней не испытывает. Серпилин довершает разгром, сообщив, что через неделю, после того как Артемьев в должности помощника начальника оперативного отдела прибыл на фронт, к нему под видом жены прилетела «одна нахальная бабёнка из Москвы», и от гнева начальства Артемьева спасло только то, что он, по мнению Серпилина, образцовый офицер. Поняв, что это была Надя, Таня ставит крест на своём увлечении и отправляется на работу в санчасть. В первый же день она едет принимать лагерь наших военнопленных и неожиданно сталкивается там с Синцовым, который участвовал в освобождении этого концлагеря, а теперь разыскивает своего лейтенанта. Рассказ о Машиной гибели не становится для Синцова новостью: он уже обо всем знает от Артемьева, прочитавшего в «Красной звезде» заметку о комбате — бывшем журналисте, и разыскавшего шурина. Вернувшись в батальон, Синцов застаёт приехавшего ночевать к нему Артемьева. Признавая, что Таня отличная женщина, на каких надо жениться, если не быть дураком, Павел рассказывает о неожиданном приезде к нему на фронт Нади и о том, что эта женщина, которую он когда-то любил, снова принадлежит ему и буквально домогается стать его женой. Однако Синцов, со школьной скамьи питающий к Наде антипатию, видит в её действиях расчёт: тридцатилетний Артемьев уже стал полковником, а если не убьют, может стать и генералом.
Вскоре у Кузьмича открывается старая рана, и командарм Батюк настаивает на его смещении со 111-й дивизии. В связи с этим Бережной просит члена военного совета Захарова не отстранять старика хотя бы до конца операции и дать ему заместителя по строевой. Так в 111-ю приходит Артемьев. Приехав к Кузьмичу с инспекционной. поездкой, Серпилин просит передать привет Синцову, о воскрешении которого из мёртвых он узнал накануне. А через несколько дней в связи с соединением с 62-й армией Синцову дают капитана. Вернувшись из города, Синцов застаёт у себя Таню. Ее прикомандировали к захваченному немецкому госпиталю, и она ищет солдат для охраны.
Артемьеву удаётся быстро найти общий язык с Кузьмичом; несколько дней он интенсивно работает, участвуя в завершении разгрома VI немецкой армии. Внезапно его вызывают к комдиву, и там Артемьев становится свидетелем триумфа своего шурина: Синцов захватил в плен немецкого генерала, командира дивизии. Зная о знакомстве Синцова с Серпилиным, Кузьмич велит ему лично доставить пленного в штаб армии. Однако радостный для Синцова день приносит Серпилину большое горе: приходит письмо с извещением о смерти сына, погибшего в своём первом же бою, и Серпилин осознает, что, несмотря ни на что, его любовь к Вадиму не умерла. Тем временем из штаба фронта поступает известие о капитуляции Паулюса.
В качестве награды за работу в немецком госпитале Таня просит своего начальника дать ей возможность повидаться с Синцовым. Встретившийся по дороге Левашов провожает её в полк. Пользуясь деликатностью Ильина и Завалишина, Таня и Синцов проводят вместе ночь. Вскоре военный совет принимает решение развить успех и провести наступление, в ходе которого погибает Левашов, а Синцову отрывает пальцы на покалеченной когда-то руке. Сдав Ильину батальон, Синцов уезжает в медсанбат.
После победы под Сталинградом Серпилина вызывают в Москву, и Сталин предлагает ему сменить Батюка на должности командарма. Серпилин знакомится с вдовой сына и маленькой внучкой; сноха производит на него самое благоприятное впечатление. Вернувшись да фронт, Серпилин заезжает в госпиталь к Синцову и говорит, что его рапорт с просьбой оставить в армии будет рассмотрен новым командиром 111-й дивизии, — на эту должность недавно утверждён Артемьев.
Книга третья. Последнее лето
За несколько месяцев до начала Белорусской наступательной операции, весной 1944 г., командарм Серпилин с сотрясением мозга и переломом ключицы попадает в госпиталь, а оттуда в военный санаторий. Его лечащим врачом становится Ольга Ивановна Баранова. Во время их встречи в декабре 1941 г. Серпилин утаил от Барановой обстоятельства смерти её мужа, однако она все-таки узнала правду от комиссара Шмакова. Поступок Серпилина заставил Баранову много думать о нем, и когда Серпилин попал в Архангельское, Баранова вызвалась быть его лечащим врачом, чтобы ближе узнать этого человека.
Тем временем член военного совета Львов, вызвав к себе Захарова, ставит вопрос о снятии Серпилина с занимаемой должности, мотивируя это тем, что готовящаяся к наступлению армия долгое время находится без командующего.
В полк к Ильину приезжает Синцов. После ранения, с трудом отбившись от белого билета, он попал на работу в оперативный отдел штаба армии, и теперешний его визит связан с проверкой положения дел в дивизии. Надеясь на скорую вакансию, Ильин предлагает Синцову должность начальника штаба, и тот обещает переговорить с Артемьевым. Синцову остаётся съездить ещё в один полк, когда звонит Артемьев и, сказав, что Синцова вызывают в штаб армии, зовёт его к себе. Синцов рассказывает о предложении Ильина, однако Артемьев не хочет разводить семейственность и советует Синцову поговорить о возвращении в строй с Серпилиным. И Артемьев, и Синцов понимают, что наступление не за горами, в ближайших планах войны — освобождение всей Белоруссии, а значит, и Гродно. Артемьев надеется, что, когда выяснится судьба матери и племянницы, ему самому удастся вырваться хоть на сутки в Москву, к Наде. Он не видел жену более полугода, однако, несмотря на все просьбы, запрещает ей приезжать на фронт, так как в последний свой приезд, перед Курской дугой, Надя сильно подпортила мужнюю репутацию; Серпилин тогда едва не снял его с дивизии. Артемьев рассказывает Синцову, что с начальником штаба Бойко, исполняющим в отсутствие Серпилина обязанности командарма, ему работается гораздо лучше, чем с Серпилиным, и что у него как у комдива есть свои трудности, поскольку оба его предшественника находятся здесь же, в армии, и часто заезжают в свою бывшую дивизию, что даёт многим недоброжелателям молодого Артемьева повод сравнивать его с Серпилиным и Кузьмичом в пользу последних. И неожиданно, вспомнив о жене, Артемьев говорит Синцову, как плохо жить на войне, имея ненадёжный тыл. Узнав по телефону, что Синцову предстоит поездка в Москву, Павел передаёт письмо для Нади. Приехав к Захарову, Синцов получает от него и начштаба Бойко письма для Серпилина с просьбой о скорейшем возвращении на фронт.
В Москве Синцов сразу же идёт на телеграф давать «молнию» в Ташкент: ещё в марте он отправил Таню домой рожать, но уже долгое время не имеет сведений ни о ней, ни о дочке. Отправив телеграмму, Синцов едет к Серпилину, и тот обещает, что к началу боев Синцов вновь попадёт в строй. От командарма Синцов отправляется к Наде в гости. Надя начинает расспрашивать о мельчайших подробностях, касающихся Павла, и жалуется, что муж не разрешает ей приехать на фронт, а вскоре Синцов становится невольным свидетелем выяснения отношений между Надей и её любовником и даже участвует в изгнании последнего из квартиры. Оправдываясь, Надя говорит, что очень любит Павла, но жить без мужчины не в состоянии. Распрощавшись с Надей и пообещав ничего не говорить Павлу, Синцов идёт на телеграф и получает телеграмму от Таниной мамы, где сказано, что его новорождённая дочь скончалась, а Таня вылетела в армию. Узнав эти безрадостные новости, Синцов едет к Серпилину в санаторий, и тот предлагает пойти к нему в адъютанты вместо Евстигнеева, женившегося на вдове Вадима. Вскоре Серпилин проходит медицинскую комиссию; перед отъездом на фронт он делает Барановой предложение и получает её согласие выйти за него замуж по окончании войны. Встречающий Серпилина Захаров сообщает, что новым командующим их фронта назначен Батюк.
В канун наступления Синцов получает отпуск для свидания с женой. Таня рассказывает об их умершей дочери, о смерти своего бывшего мужа Николая и «старого парторга» с завода; она не называет фамилию, и Синцов так и не узнает, что это умер Малинин. Он видит, что Таню что-то гнетёт, но думает, что это связано с их дочкой. Однако у Тани есть ещё одна беда, о которой Синцов пока не знает: бывший командир её партизанской бригады сообщил Тане, что Маша — сестра Артемьева и первая жена Синцова, — возможно, все ещё жива, так как выяснилось, что вместо расстрела её угнали в Германию. Ничего не сказав Синцову, Таня решает расстаться с ним.
Согласно планам Батюка, армия Серпилина должна стать движущей силой предстоящего наступления. Под командованием Серпилина оказываются тринадцать дивизий; 111-ю выводят в тыл, к недовольству комдива Артемьева и его начштаба Туманяна. Серпилин же планирует использовать их только при взятии Могилева. Размышляя об Артемьеве, в котором он видит опыт, соединённый с молодостью, Серпилин ставит в заслугу комдиву и то, что он не любит мельтешить перед начальством, даже перед недавно приезжавшим в армию Жуковым, у которого, как вспомнил сам маршал, Артемьев служил в 1939 г. на Халхин-Голе.
Двадцать третьего июня начинается операция «Багратион». Серпилин временно забирает у Артемьева полк Ильина и передаёт его наступающей «подвижной группе», перед которой поставлена задача закрыть противнику выход из Могилева; в случае неудачи в бой вступит 111-я дивизия, перекрывшая стратегически важные Минское и Бобруйское шоссе. Артемьев рвётся в бой, считая, что вместе с «подвижной группой» сможет взять Могилев, однако Серпилин находит это нецелесообразным, так как кольцо вокруг города уже замкнулось и немцы все равно бессильны вырваться. Взяв Могилев, он получает приказ о наступлении на Минск.
…Таня пишет Синцову, что они должны расстаться, потому что жива Маша, однако начавшееся наступление лишает Таню возможности передать это письмо: её переводят поближе к фронту следить за доставкой раненых в госпитали. 3 июля Таня встречает «виллис» Серпилина, и командарм говорит, что с окончанием операции пошлёт Синцова на передовую; пользуясь случаем, Таня рассказывает Синцову о Маше. В этот же день она получает ранение и просит подругу передать Синцову ставшее бесполезным письмо. Таню отправляют во фронтовой госпиталь, и по дороге она узнает о гибели Серпилина — он был смертельно ранен осколком снаряда; Синцов, как и в 1941-м, привёз его в госпиталь, но на операционный стол командарма положили уже мёртвым.
По согласованию со Сталиным Серпилина, так и не узнавшего о присвоении ему звания генерал-полковника, хоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с Валентиной Егоровной. Захаров, знающий от Серпилина о Барановой, решает вернуть ей её письма командарму. Проводив до аэродрома гроб с телом Серпилина, Синцов заезжает в госпиталь, где узнает о Танином ранении и получает её письмо. Из госпиталя он является к новому командарму Бойко, и тот назначает Синцова начальником штаба к Ильину. Это не единственная перемена в дивизии — её командиром стал Туманян, а Артемьева, после взятия Могилева получившего звание генерал-майора, Бойко забирает к себе начальником штаба армии. Придя в оперативный отдел знакомиться с новыми подчинёнными, Артемьев узнает от Синцова, что Маша, возможно, жива. Ошеломлённый этим известием, Павел говорит, что войска соседа уже подходят к Гродно, где в начале войны остались его мать и племянница, и если они живы, то все опять будут вместе.
Захаров и Бойко, вернувшись от Батюка, поминают Серпилина, — его операция завершена и армию перебрасывают на соседний фронт, в Литву.
Война застала семью Синцовых врасплох. Синцов с женой ехал в санаторий в Гурзуф, но в Симферополе на вокзале их застает известие, что началась война. Их жизнь поделилась на две части – на мирную и военную. Все осложнялось тем, что в Гродно они оставили маленькую дочь с мамой Маши, а ехать до Гродно четверо суток. Маша обвиняла себя в том, что бросила дочь и не прислушалась к своей интуиции, которая ей подсказывала, что никуда ехать не нужно. Синцов уговаривает Машу ехать в Москву в надежде, что и теща с дочкой приедут туда вскоре. Но, по приезду в Москву, они так ничего и не знают о судьбе своих родных. Гродно находится недалеко от границы, и добраться туда практически невозможно.
Синцов едет в Политуправление фронта (в Могилев), а Маша остается в Москве. По дороге Синцов попадает под бомбежки, видит, как люди умирают на каждом шагу, по неосторожности убивает сумасшедшего красноармейца, желая ему помочь, идет с пограничником в Могилев, ночует в лесу, долго идет пешком, знакомится с полковником, который довозит его на своей машине до Орши. В Могилеве он берет фронтовые газеты и едет их распространять вместе с Люсиным. По дороге они видят неравный бой в небе своих летчиков и немцев, пытаются найти и спасти пилотов. Синцов находит генерала Козырева, тяжело раненого и немного обезумевшего. Тот, не разобравшись, выстрелил в Синцова. Через две недели, выписавшийся из госпиталя в Дорогобуже, Синцов узнает, что в Могилеве нет редакции газеты, и решает не возвращаться без хорошего материала. Он остается в 176-й дивизии Серпилина, который попадает на фронт прямо из лагеря на Колыме, куда был сослан по обвинению в пропаганде превосходства фашистской армии.
176-я дивизия воюет за Могилев, но противник отрезает-таки три полка дивизии и уничтожает их по одному. Синцова назначают политруком в роту лейтенанта Хорышева. Серпилин решается на прорыв с 600-та оставшимися бойцами, и Синцова назначает своим адъютантом. После выхода из окружения в живых осталось сто пятьдесят человек, но на выручку приходит группа солдат-артиллеристов, вышедших из-под Бреста. Вышедших из окружения лишают оружия и отправляют в тыл, но по дороге их расстреливают немецкие танки и бронетранспортеры. Синцов попадает под обстрел и теряет сознание. Не зная, жив он или мертв, Золотарев забирает у него документы и идет за помощью, а раненый Синцов, без гимнастерки и документов, попадает в плен. Во время бомбежки ему удается сбежать, но в расположении стройбата, куда он попал, ему не верят. Синцов идет в Особый отдел. По дороге он встречает Люсина и собирается ехать с ним в Москву, но тот, узнав о пропавших документах, высаживает его.
Синцов обходными путями попадает в Москву и идет домой, надеясь застать там жену. Уставший, он засыпает на тюфяке. Именно в этот день его жена, Маша Артемьева, которая готовится к диверсионной работе в тылу у немцев, приезжает домой за вещами и видит там спящего на тюфяке мужа. Синцов детально рассказывает ей обо всем, что пережил за это время. Машу отправляют в немецкий тыл. Синцов пытается восстановить пропавшие документы. Он встречает Малинина, человека, который может похлопотать о восстановлении Синцова в партии, и идет в его коммунистический батальон, вскоре попадает на фронт.
Под Москвой идут тяжелые бои, дивизия Синцова несет потери и отступает. Малинин с Синцовым сдерживают немецкие танки и пехоту и удерживают высоту. В кровопролитном бою Малинина ранили в живот. Серпилин возглавляет дивизию убитого Орлова и двигается вперед. Синцов становится командиром взвода.
Сочинения
Образы Синцова и Серпилина в романе К.М. Симонова "Живые и мертвые" Человек на войне в трилогии Симонова "Живые и мертвые"Роман-эпопея Константина Симонова «Живые и мертвые» создавался на протяжении 12 лет - с 1959-го по 1971-й годы. Однако на самом деле история рождения этого произведения охватывает гораздо более значительный промежуток времени. Можно сказать, что Симонов работал над ним на протяжении всей Великой Отечественной войны. В качестве военного корреспондента автор прошел множество сражений, имел военные звания и, благодаря этому, являлся человеком, лично знакомым с этим периодом истории нашей страны. Известно, что в романе «Живые и мертвые» отражены многие из его личных переживаний, в основе этого произведения в первую очередь лежит личный опыт автора.
Вероятно, именно поэтому, а также потому, что сам Симонов обладал незаурядным литературным талантом, эпопее «Живые и мертвые» было суждено стать одним из величайших советских произведений о войне. Этот статус был неоднократно подтвержден, в том числе и Ленинской премией, которую Симонов получил за трилогию в 1974-м году.
Трилогия рассказывает о событиях 1941-1944 гг., охватывая практически весь тот период, на который пришлись самые тяжелые сражения. Вместе с главным героем Синцовым читатель переносится в самый разгар сражений, получая возможность заглянуть войне в лицо. При этом Симонов говорит не только о воинских подвигах - также он описывает и солдатские будни, и те подвиги, что совершались в тылу. Это также делает трилогию ценнейшим произведением - она показывает реалии военного времени, простых людей, которые становились героями, даже не замечая этого, жестокость, которой приходилось противостоять всему русскому народу.
«Живые и мертвые» - это достаточно сложное с эмоциональной точки зрения произведение. Рисуя военное время правдиво, честно, Симонов не бережет читателя, напоминает ему о том, насколько велик был подвиг советских солдат. В то же время главные герои эпопеи не могут не вызывать симпатии - автор показывает их в первую очередь не воинами, но людьми, которых ведет в бой понятие долга и чести, а не приказ свыше или агитация. Они самостоятельно оценивают степень своей ответственности, и именно это не дает им отступать.
Эпопея Симонова - это три тома («Живые и Мертвые», «Солдатами не рождаются» и «Последнее лето»), объединенные в одно произведение. Их роднит и стилистика, и темп повествования, и сюжетная линия. На протяжении 12-ти лет работая над этим произведением, автор придерживался одного, в самом начале взятого ритма, и это становится серьезным достоинством трилогии - она читается как одна, цельная, не разделенная годами труда книга.
Единственное отступление, которое позволяет себе Симонов - это хронологический порядок. Первые две части повествуют о событиях военного времени, тогда как третья рассказывает о том, что происходило незадолго до них. Этот сбой нисколько не портит книгу, ведь главное в ней - вовсе не интрига, а люди, вокруг которых она закручивается. И с этой точки зрения «Последнее лето» приходится как раз «к месту» - она полностью раскрывает характеры персонажей, позволяя как можно ближе узнать каждого из них.
Оценил книгу
От границы мы Землю вертели назад -
Было дело, сначала....
В. Высоцкий
Давно давно планировала я прочитать всю трилогию К. Симонова, но было некоторое опасение, что, во-первых, она может быть слишком напичкана идеологией, во-вторых, в силу большого количества военных действий, вернее полностью посвящена им, быть трудно читаемой и усвояемой.
Но все эти опасения оказались напрасными и рассеялись как дым буквально с первых строк. Чтение захватило и повлекло за собой с юга, откуда возвращается главный герой политрук Синцов с женой из отпуска, к западным границам нашей необъятной Родины.
Всегда читая книги о Великой Отечественной войне, я мысленно постоянно задаю себе вопрос: Как смогли люди тогда выстоять и победить? и Что я делала бы на их месте (хватило ли бы сил, мужества, отваги у нас, живущих сейчас) ? И читая такие книги, я пытаюсь найти ответы по крайней мере на первый вопрос.
Так как К. Симонов сам был военным корреспондентом на войне и многое наблюдал воочию, он старается дать здесь правдоподобную картину трагедии страны и каждого человека в отдельности, когда люди в одночасье были разлучены со своими родными и близкими, порой оставаясь в неведении их судеб до конца войны, а может, и уже навсегда.
Стремясь к максимальной достоверности, автор не скрывает того, во что вылились первые часы, дни и месяцы войны. Когда немецкое нападение застало врасплох нашу страну и позволило вражеским войскам дойти до самой Москвы. Всеобщая паника, неверие, что так может быть, уверенность, что все это закончится в максимально короткие сроки, что руководство страны и армии не оставят своих людей была слишком сильна. А вместе с тем первые лица государства, армейская верхушка и сами были растеряны и находились в то время в состоянии временной прострации, о чем, например, свидетельствует отсутствие выступления Сталина в связи с началом войны, которого так ждали люди и которое случилось только 3 июля 1941 года.
Рассказывая о первых самых тяжелых месяцах отступления, когда отдавали наши пяди и крохи , К. Симонова отлично живописует всю драматичность сложившегося положения, рассказывая и об окружениях, когда только выйдя из одного люди снова оказывались во втором и третьем, и о пораженческих настроениях, приспособленцах, политработниках, которые также были разные, от одержимых происками врага во всем и всех до адекватных людей, отдающих себе отчет в том, что происходит и почему, и отсутствии в достаточном количестве вооружения, да и о том, что качество его сильно проигрывало вражескому (например, один из героев романа сокрушается по поводу легкоуязвимой брони наших танков, которые были в армии на начало войны или наши самолеты в то время).
В такой неразберихе, отчаянии и ненависти к врагу фронт осенью 1941 года подходит к Москве, где и произойдет первая победа, где укрепится народная вера в ПОБЕДУ и окончательный разгром фашизма, люди почувствуют свою нарастающую силу и мощь.
Всеми дорогами войны идем мы вместе с политруком Синцовым , переживаем все перипетии, принимаем первый бой, командование и ответственность за людей на себя, выходим из окружения, теряем близких, ополченцев и в ходе ранения все документы, в том числе и партийный билет, что в условиях войны равносильно катастрофе и может караться как предательство. И в этой истории нашли отражение судьбы многих и многих людей, когда пришлось заново доказывать всем вокруг, чего ты стОишь и честно вернуть себе не только доброе имя, но и партийный билет, наличие которого людьми того времени воспринималось совершенно по другому. Принадлежностью к партии гордились, звание коммуниста было не только почетным, но и обязывающим ко многому.
В контекст романа отлично вплетены важные исторические моменты того периода. Например, упомянутое выше выступление Сталина 3 июля, военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, печально известный приказ №270 за подписью Сталина «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия».
Получившие в книге отражение важные моменты, присутствие исторических лиц(Сталин, которого автор стремится изобразить максимально достоверно и объективно), стремление автора объективно показать происходящее, не умаляя заслуг, но и не приукрашивая действительность, придают роману мощь, размах и достоверность.
При этом он настолько интересный и написан таким отличным языком, что совершенно не возникает отторжения, даже когда речь идет о собственно военных операциях.
Роман дарит надежду, но одновременно и показывает, что это важный, пока только первый шаг на пути к Победе.....
Оценил книгу
Мы не дрогнем в бою за столицу свою,
Нам родная Москва дорога.
Нерушимой стеной, обороной стальной
Разгромим, уничтожим врага!
Осторожно, в тексте содержатся неумеренные дозы строго оправданного пафоса. Да, возможно я покажусь вам тем самым персонажем Света в августе Фолкнера, который все время представлял скачущую конницу времен их Гражданской войны, но это не так важно.
Мы привыкли к мысли, что мы победили в той войне. Эта победа, столь выстраданная для самих участников войны, для нас просто данность. Мы смотрим с перспективы мая 1945, и это естественно. Но попробуйте посмотреть на нее с точки зрения июня 1941. Фашисты к этому моменту победили всех своих соперников на континенте, кроме Англии. В каждой кампании сопротивление противника было довольно быстро подавлено, а государства, как правило, коллапсировали. Мы же хоть и храбрились, но пока имели пусть и не прямой, но тоже опыт поражения в борьбе с фашистами (Гражданская война в Испании).
Поэтому основным вопросом навсегда останется – почему же мы не проиграли? Все до нас проигрывали, нас тоже так расколошматили в приграничных сражениях, что только рожки да ножки остались, а мы не проиграли. Где же секрет? В чем та самая военная тайна, которую в Советской стране знал каждый Мальчиш, а мы теперь утратили?
Вот на этот вопрос и пытается ответить в своей книге Константин Симонов. Книга знаковая, она имела большой общественный резонанс. В чем-то она схожа с Судьбой человека, она представляет из себя вполне очевидный симптом психологического принятия уже свершившегося. Шолохов принимал в общественное сознание пленных, Симонов несколько безличнее, но шире – сами поражения первых месяцев войны.
Симонов считает, что мы не проиграли из-за людей, наших с вами людей. Но не в том плане, что мы особенный народ. Просто в его трактовке злость перековала людей. Злость и ненависть. И в начале были люди, которые действовали умело, сохраняли воинские части, выводили людей из окружений, но их было недостаточно для коренного перелома. В белоснежных полях под Москвой накопилась критическая масса, и мы сумели не позволить противнику выиграть войну (но он еще ее не проиграл, проиграет только через год, в ноябре 1942, когда наступающие под Сталинградом советские фронты соединятся у Калача-на-Дону).
Но мне такая трактовка не кажется убедительной. Сколько не читаешь, сколько не думаешь, все время кажется, что выиграли только благодаря истовой вере в себя. Люди, несмотря ни на что, продолжали верить в то, что мы победим. Даже когда все было катастрофически ужасно, когда эта вера была совершенно не оправдана, люди продолжали считать, что наша возьмет. И взяла. У самого Симонова таков и Синцов, и Серпилин, и старый московский рабочий Зосима, и старый большевик Малинин. И многие другие.
Трудно представить себе мысли тех людей. Враг гнал нас от границы до Смоленска, и только здесь фронт вроде бы стабилизировался. Мы даже провели первую полууспешную наступательную операцию под Ельней, которой так гордились. А в начале октября враг опять прорвал фронт и попер на Москву со страшной силой. Сухой эвфемизм сводки («Положение на Западном фронте ухудшилось»), московская паника 17 октября 1941 – симптомы растерянности. Счастье, что она быстра схлынула.
И во всем этом, как в гигантских жерновах, застрял и был почти растерт в пыль Синцов, главный герой первого тома (хотя и здесь Серпилин то и дело затмевает его). То он мечется по ближним тылам в поисках своей армейской газеты, то выходит из окружения, то попадает в другое. Случайный осколок лишает его сознания и, опосредовано, документов, так что Москву осенью он защищает уже как рядовой боец, а не политрук. И с этой перспективы Симонову удалось показать многое. И ту самую панику середины октября, и строительство оборонительных сооружений на улицах, и добровольцев.
Я как-то подзабыл, что в книге столько страниц посвящено Битве за Москву. В память в прошлые прочтения запали эпизоды самого начала войны, все эти обидные, горькие поражения, обходы и окружения. Один такой эпизод вынесен на лаконичную и потрясающую обложку издания 1976 года. Ты, вместе с героями, задыхаешься от бессильной ярости, когда враг жжет в воздухе наши устаревшие ТБ-3, один за одним.
Но в композиционном плане важнейшими в книге являются именно эти главы про все более уплотняющуюся оборону под Москвой. Этот восхитительный в своей прозрачности момент, когда Синцов и напарник с пулеметом сидели в недостроенной трубе кирпичного завода, чуть ли не центральный в романе. Ведь именно здесь немцы дают осечку. Их превосходство во взаимодействии, их владение инициативой и умение создать локальное преимущество в технике не выручают их. Симонов использует метафору сжатой пружины, пожалуй, она верна. А потом пружина распрямилась, и мы впервые погнали немцев. Довольно топорно, еще неумело, не так изящно и легко, как они били нас все лето, но погнали и заметно отогнали. Нет, та жажда мести, которой пылают герои книги, еще не удовлетворена. До нее, до парадов пленных, до осознания неизбежности нашей победы еще далеко. Враг еще выйдет к Сталинграду следующим летом, заставив нас, словами Высоцкого, отталкиваться ногами от Урала, чтобы закрутить Землю в обратном направлении. Но, словами Шолохова, сделали мы уже первые тяжелые шаги на Запад, такие тяжелые, что услышали и наши живые, и наши мертвые.
В книге очень много верных временных маркеров, она может служить своеобразным ликбезом по начальному периоду войны. Тут тебе и речь Сталина 3 июля, и его же выступления 6 ноября на станции Маяковская и на знаменитом параде 7 ноября, вплетенные в повествование через свидетельства героев. Сталина в книге, кстати, достаточно, и он довольно живой. Симонов не боялся вспоминать его, не хотел вычеркнуть ни ошибок его, ни заслуг. От этого книга сильно выигрывает.
Но не только в Сталине дело. Тут и быт, подзабытый нами. Если бы у нас в стране была бы больше развита тяга к рефлексии, то уместно бы смотрелся путеводитель по книге – какой пикап имеет в виду Синцов, как выглядели серые плащи милиционеров, как закладывать бумажную газету и др. И не забыть еще про нематериальные ощущения. Вот метро, в котором устраивают бомбоубежища и торжественные мероприятия. Ему всего-то 6 лет, и то первой ветке, второй и того меньше. Это что-то сверхновое, только появившееся. Представляете ли вы метро таким?
Нам трудно понять весь этот пафос с восстановлением Синцова в партии после утери партбилета. Для нас это слишком выспренне. Но не для тех людей, которые искренне строили лучшее общество на Земле, для них партия была не просто социальным лифтом, а тем самым орденом меченосцев, о котором говорил когда-то Сталин. И это Симонов смог схватить.
Как же хороша его проза! Он из той плеяды поэтов, которые великолепно владеют прозаическим языком. Роман читается стремительно, на одном дыхании. Импонирует мне Симонов, это правда. Посмотрите старую запись из студии Останкино, где он встречается со зрителями, запись есть в интернете. Почувствуйте эту силу, эти стихи. Он будет читать именно те стихи, которые я люблю, горькие стихи первого периода войны, когда мы верили в себя, но видели только поражения. Даже метафоры говорят сами за себя – осажденную Одессу он сравнивает с Мадридом, который был взят фашистами несмотря ни на какие ¡No pasaran! Хорошо, что наш вариант заклинания против фашистов, сдобренный непечатными словами, сработал.
Роман К. М. Симонова «Живые и мертвые» – одно из самых известных произведений о Великой Отечественной войне. «…Ни Синцов, ни Мишка, уже успевший проскочить днепровский мост и в свою очередь думавший сейчас об оставленном им Синцове, оба не представляли себе, что будет с ними через сутки. Мишка, расстроенный мыслью, что он оставил товарища на передовой, а сам возвращается в Москву, не знал, что через сутки Синцов не будет ни убит, ни ранен, ни поцарапан, а живой и здоровый, только смертельно усталый, будет без памяти спать на дне этого самого окопа. А Синцов, завидовавший тому, что Мишка через сутки будет в Москве говорить с Машей, не знал, что через сутки Мишка не будет в Москве и не будет говорить с Машей, потому что его смертельно ранят еще утром, под Чаусами, пулеметной очередью с немецкого мотоцикла. Эта очередь в нескольких местах пробьет его большое, сильное тело, и он, собрав последние силы, заползет в кустарник у дороги и, истекая кровью, будет засвечивать пленку со снимками немецких танков, с усталым Плотниковым, которого он заставил надеть каску и автомат, с браво выпятившимся Хорышевым, с Серпилиным, Синцовым и грустным начальником штаба. А потом, повинуясь последнему безотчетному желанию, он будет ослабевшими толстыми пальцами рвать в клочки письма, которые эти люди посылали с ним своим женам. И клочки этих писем сначала усыплют землю рядом с истекающим кровью, умирающим Мишкиным телом, а потом сорвутся с места и, гонимые ветром, переворачиваясь на лету, понесутся по пыльному шоссе под колеса немецких грузовиков, под гусеницы ползущих к востоку немецких танков…»
Из серии: Живые и мертвые
* * *
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Живые и мертвые (К. М. Симонов, 1955-1959) предоставлен нашим книжным партнёром - компанией ЛитРес .
Глава пятая
Федор Федорович Серпилин, в полку у которого остался Синцов, был человек с одной из тех биографий, что ломаются, но не гнутся. В его послужном списке было отмечено много перемен, но, в сущности, он всю жизнь занимался одним делом – как умел, по-солдатски, служил революции. Служил в германскую войну, служил в гражданскую, служил, командуя полками и дивизиями, служил, учась и читая лекции в академиях, служил, даже когда судьба не по доброй воле забросила его на Колыму.
Он происходил из семьи сельского фельдшера, отец его был русским, а мать – касимовской татаркой, сбежавшей из дома и крестившейся, чтобы выйти замуж за его отца. Отец Серпилина и сейчас еще служил фельдшером в Туме, на узкоколейке, пересекающей глухие мещерские леса. Там Серпилин провел свое детство и оттуда, повторяя путь отца, восемнадцатилетним парнем уехал учиться в фельдшерскую школу в Рязань. В фельдшерской школе он попал в революционный кружок, оказался на примете у полиции и, наверное, кончил бы ссылкой, если бы не забрившая ему лоб первая мировая война.
Зимой семнадцатого года фельдшер Серпилин участвовал в первых братаниях, а осенью, как выборный командир батальона, дрался с немцами, наступавшими на красный Питер. Когда организовалась Красная Армия, он так и остался на пришедшихся ему по нраву строевых должностях и закончил гражданскую войну, командуя полком на Перекопе.
Знавшие начало его биографии сослуживцы подшучивали, за глаза называя его фельдшером. Это было так давно, что пора бы запамятовать, но он и сам при случае шутя ссылался на свою былую профессию. Сколько помнил себя Серпилин, после гражданской войны он почти всегда учился: пройдя курсы переподготовки, опять командовал полком, потом готовился в академию, кончал ее, потом, переучиваясь на танкиста, служил в первых механизированных частях и, снова вернувшись в пехоту и два года прокомандовав дивизией, получил кафедру тактики в той самой Академии Фрунзе, которую пять лет назад кончил сам. Но и здесь он продолжал учиться, все свободное время зубря немецкий – язык наиболее вероятного противника.
Когда его в тридцать седьмом году вдруг арестовали, то, как ни странно, поставили ему в вину даже этот немецкий язык и подлинники немецких уставов, отобранные на квартире при обыске.
Непосредственным поводом для ареста послужили содержавшиеся в его лекциях и бывшие тогда не в моде предупреждения о сильных сторонах тактических взглядов возрожденного Гитлером вермахта. Именно об этом он подумал вчера, с горечью отдав должное тактике немцев и жестко усмехнувшись своим, непонятным Синцову, воспоминаниям.
После ошеломившего его ареста сверх первоначального, глупейшего обвинения в пропаганде превосходства фашистской армии ему предъявили уже вообще черт знает что! Его показания дважды лично запрашивал сам Ежов, и целых полгода три сменявших друг друга следователя тщетно дожидались, чтоб он подписал то, чего не было.
В конце концов ему дали, в сущности без суда, десять лет. А еще через полгода, уже в заключении, он без долгих слов в кровь избил одного из своих бывших сослуживцев по гражданской войне, троцкиста, по ошибке избравшего его своим поверенным и поделившегося с ним мыслями о том, что партия переродилась, а революция погибла.
Время заключения в сознании Серпилина было прежде всего бездарно потерянным временем. Вспоминая теперь, на войне, эти пропащие четыре года, он скрипел от досады зубами. Но за все эти четыре года он ни разу не обвинил Советскую власть в том, что с ним было сделано: он считал это чудовищным недоразумением, ошибкой, глупостью. А коммунизм был и оставался для него святым и незапятнанным делом.
Когда его выпустили, так же неожиданно, как посадили, он вышел постаревшим и физически измотанным, но душа его не была изборождена морщинами старости и неверия.
Он вернулся в Москву в первый день войны и хотел только одного – поскорей оказаться на фронте.
Его старые товарищи, сделавшие все, что было в их силах, для его освобождения, помогли ему и тут: он ушел на фронт, не дожидаясь ни переаттестации, ни даже восстановления в партии, – подал документы в парткомиссию и уехал принимать полк. Он был готов пойти хоть на взвод, только бы без проволочек вернуться к своему делу, вновь ставшему из военной службы войной. Он хотел скорей доказать, на что он способен. Доказать не ради одного себя: ему уже вернули оружие и звание, его обещали восстановить в партии и отправили на войну с фашистами, – чего он мог желать еще? Но он хотел доказать своим примером, что и со многими другими, еще оставшимися там, откуда он вернулся, совершена такая же нелепость, как с ним. Именно нелепость.
Это чувство росло в нем с каждым днем, проведенным на фронте. Немцы были сильны – об этом не могло быть двух мнений. Война была серьезной и после первых неудач оборачивалась еще круче.
Спрашивается, кому же перед этой войной понадобилось лишить армию таких людей, как он, Серпилин? Конечно, на них свет клином не сошелся. Армия выиграет войну и без них. Но почему без них? Какой в этом смысл?
Об этом он думал сегодня, перед рассветом, лежа на охапке сена, принесенного ординарцем. Первый удачный бой наполнил его верою, нет, не в то, что его полк совершит чудеса, хотя хотелось верить и в это, а в то, что вообще дело обстоит не так худо, как показалось сначала.
Конечно же, армия сражалась лучше и наносила немцам потерь больше, чем это можно представить себе, видя только бредущих через свои позиции окруженцев. Наверное, в сотнях мест она дралась так же, как здесь в первом бою дрался его полк, и если немцы при этом все-таки шли вперед, окружали и теснили нас, то это, конечно, давалось им не просто и стоило не дешево. Громадность театра, ввод в бой наших резервов и усиление нашей техники, которая, черт возьми, должна же появиться на фронте в нормальных количествах, – все это в конце концов на каком-то рубеже остановит немцев. Вопрос только, где будет этот рубеж.
Вчерашнее затишье не радовало Серпилина. Он понимал, что немцы оставили его в покое не потому, что потеряли надежду смять его полк, а потому, что они, к сожалению, умело маневрировали своими силами. Результаты этого маневра уже начали сказываться. Они прорвали фронт и слева и справа от Могилева. Это было ясно по звукам удалявшегося к востоку боя. Только глухой мог не понять этого. А он со своим полком сидел здесь сложа руки и ждал, когда очередь дойдет до него.
Последний приказ, пришедший в дивизию перед тем, как прервалась связь с армией, был: прочно удерживать позиции. Что ж, для людей, готовых дорого продать свою жизнь и знающих, как это сделать, это был неплохой приказ, в особенности если за ним не последует приказа отступить, когда отступать будет уже поздно. Но, спрашивается, что же произошло в соседних дивизиях и до каких пор будут продолжаться бесконечные прорывы и окружения, от рассказов о которых уши болят?!
Думая о предстоящем, Серпилин больше всего боялся получить запоздалый приказ на отход. Впрочем, если с утра начнется бой, тут уж от немцев и захочешь, а не оторвешься. А бой будет. Дивизия прикрывала Могилев, сюда сходились дороги, здесь был мост через Днепр – все, вместе взятое, было таким узелком, который не оставляют у себя в тылу, не попытавшись развязать его.
«Черт его сюда принес, наверное, сложит теперь здесь голову! – с симпатией подумал Серпилин о спавшем рядом с ним на траве Синцове. – Молодой еще, как мой начальник штаба. Тоже, наверное, молодая жена…» И Серпилин перенесся мыслями к собственной жене, жившей в Москве, в старой академической казенной квартире. Когда его арестовали, ей все-таки оставили там одну комнату: кого-то зазрила совесть. «Ах, старая, старая! – с нежностью подумал Серпилин. – Совсем седая стала. Измотала себя на письма, на передачи, на хождения по сослуживцам и начальникам, а ведь какая красивая была когда-то, и сколько горячих и глупых голов в разных гарнизонах удивлялось, зачем вышла замуж за своего долговязого урода и почему не изменяет ему».
С запада гулко и отчетливо грохнуло: немцы положили сразу несколько снарядов.
«По Плотникову, – отметил про себя Серпилин и спокойно подумал: – Вот и начали».
Синцов вскочил и спросонок стал шарить вокруг себя, ища пилотку.
– Значит, остался? – неторопливо стряхивая с себя стебли сена, сказал ему Серпилин. – Теперь уж жалей не жалей…
Синцов промолчал.
– Ну что ж, пойдем со мной в батальоны. Хотел бой видеть, сейчас увидишь.
Бой, возобновившийся на фронте серпилинского полка, продолжался трое суток, почти не затихая.
К середине первого дня немцам почти нигде не удалось продвинуться, несмотря на сильный артиллерийский огонь, который они вели, не жалея снарядов, и несколько танковых атак с десантами на броне. Перед фронтом полка прибавилось еще два десятка сожженных и подбитых танков и бронетранспортеров. На ржаном поле осталось, как все говорили, пятьсот и, как донес в дивизию не любивший преувеличений Серпилин, триста немецких трупов. В полку людские потери были еще больше – и от огня артиллерии и танков, и от огня немецких автоматчиков, положивших без остатка побежавшую из окопов роту. В половине рот были убиты командиры или политруки, погиб так и не успевший выспаться Плотников, на наблюдательном пункте прямым попаданием мины был в клочья разорван замполит полка.
Во второй половине дня к Серпилину, к последнему из трех своих командиров полка, добрался командир дивизии полковник Зайчиков. С утра он был за Днепром и, поняв, что остается в окружении, повернул полк, находившийся там во втором эшелоне, фронтом к востоку и тылом к реке. Потом, переправляясь через Днепр, полдня просидел в полку, прикрывавшем окраину Могилева: там ожесточенно работала немецкая артиллерия, но атаки были слабее, чем против Серпилина. Должно быть, немцы хотели, не ввязываясь в бой на улицах города, сначала уничтожить Серпилина и в обход Могилева выйти к днепровскому мосту. Так, по крайней мере, сказал Серпилину командир дивизии. Он пришел к нему на командный пункт, обливаясь потом от жары и засунутой под гимнастерку рукой прижимая больное сердце. После тяжелого дня, проведенного на позициях, оно давало себя знать. Грузный, с отеками под глазами, командир дивизии стоял рядом с Серпилиным в окопе, жадно глотал воздух и все никак не мог наглотаться.
– Глущенко-то у нас убили, – горестно сказал командир дивизии о своем замполите. – Глупо убили, случайным снарядом у моста!
– А кого умно убивают? – отозвался Серпилин. – Я вам докладывал: у меня тоже замполита убили, тоже сирота.
– Знаю, – сказал комдив, – и вот замену тебе привел.
Он повернулся в сторону пришедшего вместе с ним маленького, краснолицего, седобрового батальонного комиссара в толстых очках с двойными стеклами, которого Серпилин никогда до этого не видел в дивизии.
– Лектор из самого ПУРККА, – все еще продолжая задыхаться, отрывисто сказал комдив. – Лекции к нам приехал читать, а у нас, видишь, какие тут лекции…
– Шмаков, – прикладывая руку к козырьку, сказал батальонный комиссар.
– Желание пойти к тебе в полк высказал сам товарищ Шмаков. Обстановка ему ясна. Приказом по дивизии отдано, – сказал комдив, – так что поздравляю с комиссаром полка.
Серпилин вопросительно взглянул на Зайчикова.
– Вот именно! С комиссаром полка, – повторил тот. – Последнее, что Глущенко, покойник, получил из политотдела армии, когда связь прервалась, – есть указ о восстановлении института военных комиссаров. Хотел с этим сам в полки поехать, но не успел, бедный…
– Да, – помолчав, сказал Серпилин, – опять как на гражданской – ты да комиссар. Вся серьезность нашего положения подчеркнута…
– Для вашего сведения, товарищ командир полка, – сказал Шмаков, – в свое время, по мобилизации на Деникина, был около года комиссаром Сорок второй стрелковой дивизии. Но, правда, после гражданской тут же отозвали на политработу, и снова хожу в форме только неделю.
– Он тоже еще месяца нет, как надел военную форму, – кивнул Зайчиков на Серпилина. – Тоже когда-то дивизией командовал, а я у него после академии стажировался, так что вы оба попались тут друг другу большие начальники, – пошутил он, но шутка не получилась: убитый Глущенко никак не выходил у него из головы.
– Много ли у тебя людей под начальством осталось, а, начальник? – превозмогая себя, все-таки попробовал пошутить комдив.
Серпилин доложил о потерях.
– У всех большие потери, – сказал Зайчиков. – Большие потери! – повторил он и снова подумал о Глущенко.
Короткая передышка кончилась, и немцы снова пошли в атаку раньше, чем Серпилин успел толком поговорить со Шмаковым. Как только началась атака, новый комиссар взял провожатого и пошел в батальоны знакомиться.
Что комиссар сразу не стал околачиваться на КП, пришлось по душе Серпилину, и тем более захотелось поберечь его в меру возможности.
Пока продолжалась эта шестая за день атака, Зайчиков оставался в полку, все время находясь рядом с Серпилиным. Его присутствие в полку не стесняло Серпилина, тем более что комдив за все время отдал лишь два-три приказания, и притом таких, которые в следующую минуту собирался отдать сам Серпилин. Это говорило о том, что они одними глазами видят происходящее на поле боя.
В свою очередь, командир дивизии, которого две недели назад, когда Серпилин принимал полк, совсем не обрадовало прибытие к нему в подчинение человека старше его по званию, сейчас, в бою, забыл и думать об этом. Хотя он стажировался у Серпилина много лет назад и они, в сущности, не так уж хорошо знали друг друга, но в сложившейся тяжелой обстановке довоенное знакомство было важно для обоих и вызывало на взаимную откровенность.
Как только шестая атака была отбита с большей легкостью, чем предыдущие, – немцы, кажется, начали выдыхаться, – комдив заторопился в соседний полк.
– За тебя, Федор Федорович, я не волнуюсь, – прощаясь, с глазу на глаз сказал он Серпилину. – Я, конечно, рад, что тебе у меня полк дали, хотя, по совести, нам бы с тобой соседними дивизиями командовать, по крайней мере, за фланги были бы взаимно спокойны, а то воюем, а флангов нет! Еще вчера утром хоть с левым соседом соприкасался, а сейчас – ищи-свищи!
– Ничего, – сказал Серпилин, – все, что наше, – с нами, покомандуем тем, что бог дал. Живы будем – до генералов дослужимся, а полковниками и комбригами помрем – какие есть, такими и зароют.
– Фашистов бы побольше в землю закопать, – сказал комдив, – а самим можно и без святого причастия. Что-то ихняя авиация сегодня не летает, – прощаясь с Серпилиным, поглядев на небо, добавил он.
Сказал и накликал беду: не прошло и получаса, как немцы нанесли тяжелый бомбовый удар по стыку Серпилина с соседним полком. Сорок бомбардировщиков, пикируя один за другим, словно ножом прорезали целую полоску к реке. Сплошная пелена дыма закрыла северную часть горизонта.
А когда бомбежка кончилась и прошел еще час, комдива принесли на носилках, обессиленного, тяжело раненного осколком бомбы в живот, и хирург, прибежавший в медпункт, вместе с хирургической сестрой долго возился над ним, под глухие стоны вынимая осколок. Командир дивизии сразу после ранения категорически приказал нести себя не на медпункт, а сюда, на КП, к Серпилину.
Врач, чертыхаясь в душе, вынужден был подчиниться. Он был молод и робел, потому что полковника Зайчикова в дивизии боялись как огня, и это чувство не проходило у врача даже сейчас, когда грозный Зайчиков лежал перед ним неподвижный и беспомощный.
После того как немецкие бомбардировщики на стыке двух полков перепахали все пространство до самого Днепра, в еще не развеявшемся дыму бомбежки по тому же месту ударили немецкие танки. Прорвавшись к мосту через Днепр, они успели захватить его невзорванным. Вместе с танками, на броне, прорвались автоматчики. Их было не много, всего рота, но бомбежка и танковая атака были такими неожиданными, а гремевший в темноте огонь автоматов казался таким сплошным, что ни Серпилин, ни командир отрезанного от него полка в первый час катастрофы не решились ударить по еще тонкой пока цепочке прорвавшихся к Днепру немцев.
Вечером не рискнули: сказалось и отсутствие опыта, и преувеличенное представление о численности врага, – а утром было уже поздно. Когда Зайчикова принесли на командный пункт полка, Серпилина там не было. Разминувшись с раненым комдивом, он пошел в свой пострадавший правофланговый батальон распорядиться приготовлениями к утреннему бою.
Комдив приказал принести себя прямо на командный пункт, к Серпилину, потому что рана показалась ему смертельной и он хотел успеть возложить командование дивизией на Серпилина. Когда врач, чистя рану, собрался дать наркоз, он воспротивился, боясь хоть на минуту потерять сознание; ему казалось, что он так и умрет, не успев передать дивизию Серпилину…
Что командир дивизии тяжело ранен, Серпилин узнал еще в батальоне. Отдав самые необходимые распоряжения, он поспешил на медпункт полка, рассчитывая застать командира дивизии там. Но на медпункте не было ни командира дивизии, ни хирурга, вызванного на командный пункт.
– Товарищ комбриг, – стоя у входа в землянку в надетом поверх гимнастерки окровавленном халате, шепотом говорил врач, – я не виноват, я хотел, как положено, обработать рану в наилучших условиях, но командир дивизии приказал…
– Эх вы, приказали вам! – сердито махнул рукой Серпилин. – Бывают моменты, когда не мы врачам, а врачи нам приказывают. Жив будет?
– Все, что можно было сделать, сделано, но ранение тяжелое, а условия для оказания помощи…
– Ахать поздно! Что-нибудь еще можете сделать?
– Пока больше ничего не могу.
– Тогда идите, у вас там, на медпункте, раненые в очереди на земле валяются, – сказал Серпилин и вошел в землянку.
Зайчиков лежал на койке с широко открытыми глазами и подергивал губами, силясь не стонать.
Серпилин пододвинул под себя табуретку и больно уперся острыми коленями в край койки.
– Отвоевался, Федор Федорович, – сказал комдив, и из глаза его выкатилась и поползла по щеке слеза. Он вытер слезу и снова положил руку вдоль тела на простыню. – Накрой меня шинелью, знобит.
Серпилин снял с гвоздя свою шинель и накрыл ею комдива поверх простыни.
– Что там немцы? – спросил комдив.
Скрывать истину от раненого было бесполезно, да Серпилин и не считал себя вправе это делать. Раненый Зайчиков все еще оставался командиром дивизии. Серпилин доложил, что немцы отрезали его от соседнего полка, вышли к Днепру и, по всей вероятности, захватили мост. Комдив несколько минут лежал молча, переживая это известие и собираясь с мыслями. С мыслями собраться было трудно, они расползались в разные стороны: если немцы взяли мост, значит, они одним ударом отрезали друг от друга все три полка. Он подумал о полковнике Юшкевиче, своем начальнике штаба, который теперь остался за старшего на том берегу Днепра.
– Все сразу в клочья, – вслух сказал он.
Юшкевич был, по его мнению, хороший начальник штаба, но доля ему сейчас досталась самая незавидная. После потери моста он оказывался между двух огней, пришитый к узкой полоске берега, с немцами за спиной. Если догадается сегодня же ночью попробовать прорваться на восток, может, что-нибудь и вытащит, а не догадается – пропал!
Майор Лошкарев, командир отрезанного теперь полка, стоявшего на окраинах Могилева, был храбр до отчаянности, но еще зелен. Что он не струсит, Зайчиков был уверен, но трудно было сказать, как Лошкарев справится с полком, действуя на свой страх и риск. Зайчиков даже пожалел, что его ранило здесь, у Серпилина, а не там, у Лошкарева: там он был бы нужней, даже такой, как сейчас, лежачий.
Потом он с жалостью к самому себе подумал о своей ране и о своей семье – жене и дочерях. Все девочки и девочки, жена даже последний раз плакала, что не мальчик.
«Трудно, когда пять дочерей», – вспомнил он о своей семье так, словно его самого уже не было в живых.
– Слушай, Серпилин, – он наконец собрался с мыслями, – готовься принять дивизию. Пиши приказ.
– Будет надо – буду готов, а с приказом подожди! При живом командире дивизию не принимают. Перележишь, отойдешь, ты мужик вон какой здоровый. – И Серпилин осторожно дотронулся рукой до его плеча.
Зайчиков скосил на него глаза, промолчал. Да и что было говорить? На месте Серпилина он ответил бы то же самое.
– А все-таки ты приготовься, – помолчав, сказал он и закрыл глаза.
То, что он сейчас был у Серпилина, а не на медпункте, утешало его: там бы он уже чувствовал себя только раненым среди других раненых, а здесь он все еще командир дивизии. Он пролежал несколько минут с закрытыми глазами, а когда открыл их, то увидел стоявшего за спиною Серпилина давешнего, подходившего к нему в лесу долговязого политрука из газеты. Политрук был в грязной, вывалянной в земле гимнастерке и с немецким автоматом.
Синцов почти весь день провел рядом с Серпилиным, сначала в одном батальоне, потом в другом; на его глазах танки ворвались в расположение батальона Плотникова; один танк въехал на железнодорожную насыпь, своротил будку путевого обходчика и долго бил из пушки, стоя в пятидесяти метрах от Синцова; снаряды свистели прямо над головой. Потом Плотников вышел из окопа и кинул под танк связку гранат. Танк загорелся, а Плотникова в следующую секунду убило пулеметной очередью с другого танка.
Потом Синцов увидел, как побежала одна из рот. Немецкие автоматчики стали косить ее, а Серпилин, командуя оказавшимися рядом бойцами, отбил атаку автоматчиков огнем и гранатами; при этом он сам то и дело прицеливался и стрелял из винтовки.
Недалеко от Синцова стрелял из винтовки по немцам старик обходчик; а потом, когда Синцов еще раз оглянулся, старик уже лежал на дне окопа мертвый, в немецком мундире, распахнутом на седой окровавленной груди.
Синцов тоже стрелял из винтовки и застрелил – он это видел – немца, выскочившего словно из-под земли в десяти шагах от него.
– Вот и ты своего немца застрелил, – когда была отбита атака, сказал Синцову Серпилин, который, казалось, все замечал вокруг себя. Потом он распорядился отдать Синцову снятый с убитого немца автомат и две длинные запасные обоймы к нему в холщовом мешке. – Бери, твой, законный!
Все это было давно, днем, а вечером, уже в темноте, Синцов пошел с Серпилиным туда, где после бомбежки прорвались немцы. Там он потерял Серпилина из виду, долго искал, боясь, что его убили, и обрадовался, когда, вернувшись на командный пункт, узнал, что Серпилин жив и здоров.
Синцов так с улыбкой и вошел в землянку и вдруг увидел все сразу: худую, согнутую спину сидевшего на табуретке Серпилина и лежавшего на серпилинской койке с закрытыми глазами полковника, командира дивизии. Полковник был так бледен, что показался Синцову мертвым. Потом он открыл глаза и долго молча смотрел на Синцова.
Синцов тоже стоял молча, не зная, что ему теперь делать и говорить. Серпилин почувствовал чье-то присутствие за спиной и повернулся.
– Ну как, политрук, навоевался? Теперь не будешь жаловаться, что нечего писать?
Синцов вспомнил о своем лежащем в полевой сумке блокноте, к которому он так и не притронулся ни разу за день. Он был голоден, но спать ему хотелось еще больше, чем есть.
– Разрешите идти, товарищ комбриг, – сказал он вместо ответа, чувствуя не в руках и не в ногах, а где-то глубоко внутри себя тупую усталость от всех, вместе взятых, одна за другой пережитых за день опасностей.
– Спать хочешь? – смерил его понимающим взглядом Серпилин. – Иди, ты человек вольный.
– Я тут же, рядом, лягу, около землянки, – сказал Синцов, стыдясь, что ему хочется спать, когда, наверно, гораздо более усталый, чем он, Серпилин сидит здесь и бодрствует.
Серпилин, не оборачиваясь, кивнул.
– Чего он у тебя здесь? – тихо спросил Зайчиков, но Серпилин только пожал плечами, затрудняясь ответить.
Едва Синцов вышел, как в землянку зашел Шмаков; он был тоже с немецким автоматом. Войдя, он снял автомат, поставил его в угол и, устало вертя шеей, подошел к койке. Ему уже сказали, что Зайчиков ранен и лежит здесь; спрашивать было незачем и нечего. Он стоял и молчал.
– Много автоматов взяли? – посмотрев на него, спросил Зайчиков.
– Двадцать.
– Густой у них автоматный огонь, – сказал Зайчиков. – Еще с финской стало ясно, что надо автоматы в массовом масштабе брать на вооружение, а все чесались. Так и прочесались до самой войны. У нас хорошо, если десять автоматов на полк, а у них сотни! – В его ослабевшем, хриплом голосе слышалось раздражение.
Шмаков стал рассказывать, что происходило в левофланговом батальоне. Серпилин и комдив слушали его: Серпилин – внимательно, Зайчиков – с пятого на десятое, каждые полминуты жмуря глаза от болей в животе.
– Прямо рожать собрался, – сказал он наконец, через силу улыбнувшись.
– Я к тебе в землянку перейду, товарищ Шмаков, – сказал Серпилин, – а здесь у комдива медицинский пост поставим.
Вначале Серпилин хотел настоять, чтобы комдива перенесли на медпункт, но потом раздумал. В конце концов теперь, в окружении, неизвестно, где в полку тыл, а где передовая. Пусть лежит здесь, все равно не уговоришь, а затевать споры, зная, что они ничем не кончатся, Серпилин не любил.
– Не надо мне никакого поста, – сказал Зайчиков. – Выходит, я тебя из землянки выжил!
– Надо! – решительно сказал Серпилин. – В этом со мной не спорь, я же в прошлом как-никак фельдшер, опыт имею.
Зайчиков невольно улыбнулся. Он вспомнил прозвище Серпилина «фельдшер» и свою стажировку у него в дивизии в далеком тридцать третьем году.
– Если сумеешь, постарайся задремли, Николай Петрович. – Серпилин встал. – Пойдем с комиссаром подобьем итоги дня, а потом вернемся к тебе за приказаниями.
«Как же, нужны тебе сейчас мои приказания! – беззлобно и честно подумал Зайчиков, проводив взглядом Серпилина. – Ты не Лошкарев. Повернись у тебя иначе, ты бы сейчас дивизией, а то, глядишь, и корпусом командовал и сам бы мне приказания отдавал… Если бы только у нас с тобой связь была», – вспомнил он о прерванной связи с армией и горько усмехнулся.
В землянке у Шмакова, в которую тот сам зашел сейчас впервые, сидя друг против друга на койках – Шмаков на койке убитого утром комиссара, а Серпилин на койке убитого вечером начальника штаба, – они подвели итоги дня и, как тришкин кафтан латая сегодняшние потери в полку, обсудили, кого и куда переместить, чтобы заткнуть все дыры.
Нужно было к ночи назначить одного командира батальона, двух командиров рот и трех политруков вместо выбывших за день из строя. Шмаков пока познакомился с людьми только в одном батальоне, да и то наспех; почти все кандидатуры называл Серпилин. Когда дошло до политрука, Серпилин вспомнил Синцова.
– А что ему, – сказал он, когда Шмаков пожал плечами, – за мной хвостом ходить, пока не убьют? Раз по званию политрук, пусть идет политруком роты. Будет не хуже других, а будет хуже – все равно другого нет.
Через пять минут разбуженный Синцов, протирая сонные глаза, стоял перед Серпилиным и Шмаковым, которого вовсе не ожидал здесь встретить, и выслушивал их краткое напутствие. Его отправляли теперь же, пока темно, в роту, к тому самому Хорышеву, с которым они вчера сидели разутые на железнодорожной насыпи и, греясь на солнышке, грызли тарань.
– Я только не командовал никогда, – неуверенно ответил Синцов, когда Серпилин задал ему хотя и положенный, но в этих обстоятельствах, пожалуй, бессмысленный вопрос: «Как, справишься?»
– А ты покомандуй, – наставительно сказал Серпилин. – Звезду на рукаве и три кубаря на петлицах носишь, значит, имею право с тебя требовать в соответствии со званием. – Он проговорил все это довольно сердито, не потому, что на самом деле сердился на Синцова, а потому, что хотел подчеркнуть перемену в его положении. – Провожатых теперь тебе не положено, а не доберешься – дезертир! – И Серпилин улыбнулся, давая понять, что последние слова – шутка.
Синцов, все еще не до конца придя в себя, пожал протянутые ему на прощание руки Серпилина и Шмакова. Оба они были для него отныне совсем другими, чем раньше. Еще вчера он был гостем в полку у этого долговязого комбрига с добрым лошадиным лицом, еще недавно он был случайным фронтовым попутчиком этого маленького седого батальонного комиссара, а теперь они были его командир и его комиссар, а он был политрук роты, находившейся под их командой; и от него уже не ждали, что он опишет, как другие воюют, а ждали, чтобы он сам воевал, как другие. Еще никогда в жизни с ним не случалось превращения более мгновенного и более трудного.
Когда Синцов вышел, Серпилин и Шмаков переглянулись.
– Я из медиков сразу в командиры батальона шагнул, – сказал Серпилин, – и ничего, справился. Так чего ж мне в нем сомневаться? – кивнул он на дверь. – Что ж, они за двадцать три года Советской власти хуже нас стали? Или мы с ними умели только разговоры разговаривать, а людей из них сделать не сделали? Не верю! И, несмотря на все наши нынешние черные беды, все равно не верю! Может, и не всегда как надо воспитывали, а все же ничего, крепко, думаю, покрепче, чем фашисты своих! Воспитали людей неплохо, даже в тюрьме, бывало, лишний раз в этом убеждался. Про тюрьму не удивляешься?
– Не удивляюсь. Зайчиков рассказал мне вашу историю, – ответил Шмаков, постеснявшийся сразу перейти на «ты».
Но Серпилин понял это обращение на «вы» по-своему.
– Вот как вам не повезло, к кому вас судьба комиссаром забросила, товарищ Шмаков: ответственность в квадрате, можно даже считать – в кубе, – сказал он, сам переходя на «вы» и не скрывая горькой иронии.
Шмаков мог бы ответить на это многое. Он мог бы ответить, что судьба вообще не забрасывала его в армию, а он пошел в нее сам. Он мог бы ответить, что попросил Зайчикова использовать его на любой должности не до, а после того, как ему стало ясно положение дивизии. Он мог бы, наконец, сказать, что никак не меньше Серпилина верит в Советскую власть и в ее способность воспитывать преданных ей до последнего вздоха людей и именно поэтому верит в него, Серпилина, как в самого себя.
Но разговорчивый в обычное время профессор, а ныне батальонный комиссар Шмаков терпеть не мог объясняться, когда его к этому вынуждали. Поэтому, не ответив ничего из того, что он мог бы ответить Серпилину, Шмаков помолчал, посмотрел на него через свои толстые очки и сказал всего одну фразу:
– Товарищ Серпилин, я не умею быстро переходить на «ты». Прошу вас не придавать этому ровно никакого значения.
И, только чуть-чуть подчеркнув слова «ровно никакого», дал почувствовать Серпилину, что понял и отвергает его упрек.
– Если я вас верно понял, вам нет дела до моего прошлого, – сказал любивший идти напрямую Серпилин.
– Вы верно меня поняли.
– Но я-то его пока еще не забыл, нет-нет и вспомню. Это вы понимаете?
– Понимаю.
– Как вас зовут?
– Сергей Николаевич.
– Меня – Федор Федорович.
– Ну вот и окончательно познакомились! – рассмеялся Шмаков, радуясь концу напряженного разговора. – А то вдруг кому-нибудь из нас помирать, и вышло бы даже неудобно: не знали бы, какие инициалы в похоронной писать.
– Эх, Сергей Николаевич, брат мой во Христе и в полковой упряжке! – покачал головою Серпилин. – Уметь помирать – это еще не все военное дело, а самое большее – полдела. Чтоб немцы помирали, вот что от нас требуется. – Он встал и, потянувшись всем своим длинным телом, сказал, что пора идти докладывать комдиву.
– А может, его не трогать, ему ведь плохо, – возразил Шмаков.
– Доложим – станет лучше. Рана у него слишком тяжелая, чтобы просто так лежать и смерти ждать. Пока будет приказывать – будет жить!
– Едва ли врачи согласятся с вашей точкой зрения, – тоже встал Шмаков.
– А я их согласия не спрашиваю, я сам фельдшер.
Шмаков невольно улыбнулся. Серпилин тоже улыбнулся собственной шутке, но вдруг снова стал серьезен.
– Вот вы тут о смерти заговорили, и я вам тоже скажу, чтоб не возвращаться, чтоб вы меня до самых потрохов поняли. Помереть на глазах у всех я не боюсь. Я без вести пропасть не имею права! Поняли?
Следующий день, снова с утра до вечера, весь прошел в бою. Постепенно большая часть полевых и противотанковых орудий была выведена из строя, и немецкие танки, то и дело прорываясь в глубину позиций, подолгу ползали между окопами, разворачивали гусеницами землянки, били из пушек, зайдя сбоку, во всю длину поливали из пулеметов окопы и ходы сообщения. Иногда могло показаться, что позиции полка уже захвачены, но немецкой пехоте весь день никак не удавалось прорваться вслед за танками, а без нее танки ничего не могли доделать до конца: одни, израсходовав боезапас, выходили из боя, другие загорались в глубине позиций, забросанные связками гранат и бутылками с бензином.
Из-за недостатка артиллерии и снарядов танков сожгли меньше, чем в прошлые дни, но все-таки девять штук их сгорело в разных местах. Один даже взгромоздился на блиндаж Серпилина, где теперь лежал Зайчиков; там, на блиндаже, его и сожгли, и он стоял над ним, как памятник, завалившись задом в окоп и задрав к небу орудие.
Всего за день отбили восемь сменявших друг друга немецких атак.
Синцов, придя еще с вечера в роту к Хорышеву, за целые сутки только два раза взглянул на часы. Ему было недосуг думать о том, хорошим или плохим политруком роты он оказался; он просто был весь день в окопах с бойцами и старался как мог толковей приказывать тем немногим людям, которые были поблизости от него, то, что считал необходимым в ту или другую минуту. Он приказал не стрелять, когда почувствовал, что нужно подпустить атакующих немцев поближе, и приказал стрелять, когда понял, что пора стрелять, и стрелял сам, и, наверное, убивал немцев.
Когда кончилась последняя, восьмая по счету, немецкая атака, начало темнеть и Хорышев с забинтованной под пилоткою головой подошел к нему и громко, как глухому, крикнул в ухо: «Хорошо действовал, политрук!» – Синцов лишь пожал плечами. Он сам не знал, хорошо он действовал или плохо, он знал одно: они остались в тех же окопах, где были с утра, и, наверное, это было хорошо.
Подумав так, он вдруг удивился, что остался жив: слишком много людей было за день убито и ранено вокруг него. Когда их убивало и ранило каждого в отдельности, он не думал о себе, но сейчас, когда после боя вспомнил всех их, раненых и убитых, вместе, ему показалось странным, что всех их убило и ранило, а его за весь день даже не поцарапало.
– Как думаешь, завтра опять пойдут? – спросил он Хорышева.
Тот не расслышал и переспросил. Синцов устало повторил свой вопрос, и Хорышев ответил так же устало:
– Конечно, пойдут, что же им больше делать!
Уже совсем стемнело, когда Серпилин пришел в землянку к комдиву. Верхний накат в землянке покосился, а одно бревно вылезло и углом свисло вниз. Пол возле койки, на которой лежал Зайчиков, был завален грудами осыпавшейся из-под накатов земли.
– Чуть не задавил меня танк, – усмехнулся Зайчиков. – Уже считал, что немцы пришли, приладился стреляться. – Он дотронулся до выглядывавшего из-под подушки пистолета. – Что у Лошкарева слышно?
– Последние часы ничего не слышно, – сказал Серпилин, – тихо!
– Вот и я все прислушивался – со второй половины дня стало стихать. Боюсь я за Лошкарева, – тревожно сказал Зайчиков.
Серпилин промолчал. Он уже не боялся за Лошкарева: там стало так тихо, что бояться было поздно.
– Сейчас вернется комиссар, спросим, – сказал он. – Там с элеватора кое-что просматривается, он мне сказал, что хочет залезть посмотреть.
Прошло полчаса, а Шмакова все еще не было. Наконец он вернулся в черной от пота гимнастерке. Прежде чем говорить, он выпил подряд две кружки воды из стоявшего в углу землянки ведра; вода была мутная, с желтым осадком – в нее нападала глина с потолка. Налив третью кружку, он снял фуражку, снял очки и вылил воду на крепкую, красную, с седой щетиной шею.
– Перегрелись за день? – полусерьезно, полушутя спросил Серпилин.
– Да, духота, годы дают себя знать, – сказал Шмаков виноватым тоном и, сев на табуретку, стал рассказывать, что немцы так ни разу и не выстрелили по элеватору за все время, пока он там был. – Вся башня в пробоинах, как сито, – объяснил он. – Наверное, думают, что мы уже сняли с нее наблюдательный пункт. Известия невеселые: направо от нас все тихо, ни выстрела, и час назад, правда, не ручаюсь за свои наблюдения, уже темнело, но бойцы подтверждают – у них глаза получше, чем у меня, – он снял, протер очки пальцами и надел их, – немцы провели из Могилева по шоссе на запад колонну пленных.
– Много ли? – спросил Зайчиков.
– Бойцы говорят, человек триста.
– Да, кончился полк Лошкарева, – сказал Зайчиков и, помолчав, повторил еще раз: – Кончился полк Лошкарева.
В землянке наступило молчание. Все трое молчали, и все трое думали об одном и том же: завтра или послезавтра должна наступить их очередь. Снаряды кончались, гранаты еще были, но им когда-нибудь придет конец, бутылок с бензином уже не было. Завтра немцы начнут новые атаки, допустим, можно продержаться еще день, а что дальше? Можно, конечно, попытаться ночью уйти, прорваться на восток, за Днепр. Но как это удастся, и удастся ли, и сколько при этом потеряют – все это наводило на тяжелые мысли. Было жаль, до слез жаль оставлять эти позиции, на которых они уже несколько дней так успешно отбивались и уничтожили почти семьдесят немецких танков. Если вылезешь из окопов, много танков не пожжешь…
У всех троих были почти одни и те же мысли, но никто не хотел заговорить первым. Серпилин ждал, что скажет командир дивизии, Зайчиков ждал, что скажет Серпилин, а Шмаков, вертя круглой седой головой, поглядывал на них обоих, считая, что ему, новому в полку человеку, о таких вещах, наверное, следует говорить в последнюю очередь. Так никто и не заговорил; все молча отложили решение вопроса до завтрашнего дня.
Среди ночи доносились звуки сильного боя за Днепром, к утру бой затих и там. Едва ли это была ночная атака немцев. Серпилин успел заметить, что они, как правило, не любят воевать по ночам. «Достаточно успевают и за день», – горько усмехнулся он своим мыслям. Скорее всего, это Юшкевич пробивался на восток с оставшимися на левом берегу частями дивизии.
Трудно было сказать, удалось ли ему это. Так или иначе, левый берег затих, все кончилось, к утру пятого дня боев полк Серпилина остался в полном одиночестве. Серпилин ждал с рассвета новых немецких атак, нисколько не сомневаясь, что они с минуты на минуту начнутся. Но прошел час и два, а немцы все не начинали. Наоборот, наблюдатели доносили, что немецкое боевое охранение за ночь исчезло, отошло в лес. Это было загадочно, но прошел еще час, и загадка объяснилась. В воздухе появилась немецкая авиация, которая за четыре предыдущих дня нанесла всего один удар, когда танки отрезали полк Серпилина от полка Лошкарева. Наверное, она была занята на других, более важных направлениях, а теперь Серпилину и его полку предстояло испытать на себе всю силу ее ударов.
Подарив полку три первых утренних часа тишины, немцы весь день вознаграждали себя за это. Ровно двенадцать часов – с девяти утра до девяти вечера – на позиции полка пикировали немецкие бомбардировщики, сменяя друг друга и ни разу больше чем на полчаса не прерывая своей смертельной молотьбы. Тяжелые полутонные и четвертьтонные бомбы, бомбы весом в сто, пятьдесят и двадцать пять килограммов, кассеты с мелкими, сыпавшимися, как горох, трех – и двухкилограммовыми бомбами – все это с утра до вечера валилось с неба на позиции серпилинского полка. Может быть, немцы бросили и не так уж много самолетов – два или три десятка, – но они летали с какого-то совсем близкого аэродрома и работали беспрерывно. Едва уходила одна девятка, как на смену ей появлялась другая и снова сыпала и сыпала свои бомбы.
Теперь было понятно, почему немцы оттянули боевое охранение; они не хотели больше тратить на полк Серпилина танки и пехоту. У них освободилась авиация, и они отвели ей роль безнаказанного убийцы, решив без потерь для себя смешать с землей полк Серпилина, а потом взять голыми руками то, что останется. Наверное, они и завтра еще не пойдут в атаку, а будут продолжать бомбить и бомбить – эта мысль страшила Серпилина. Нет ничего трудней, чем гибнуть, не платя смертью за смерть. А именно этим и пахло.
Когда кончился последний налет и немцы полетели к себе ужинать и спать, позиции полка были так перепаханы падавшим с воздуха железом, что на них нельзя было найти ни одного целого куска телефонного провода длиной в пять – десять метров. За все время удалось сбить только один «юнкерс», а потери в полку были почти такие же, как в самый кровавый из всех дней – вчерашний. К началу боев полк насчитывал две тысячи сто человек. Сейчас, по грубым подсчетам, не осталось и шестисот.
С этим неутешительным докладом Серпилин пошел в землянку к Зайчикову. Несколько раз за день он уже не рассчитывал увидеть в живых комдива: по крайней мере, десять бомб всех калибров в разное время разорвалось вокруг землянки, каким-то чудом вписав ее невредимой в этот круг смерти.
– Товарищ комдив, мое мнение – сегодня ночью пробовать прорываться, – сказал Серпилин сразу, как только вошел. Сегодня он убедился, что другого выхода нет, а будучи убежден, спешил высказаться без оглядки. – Если не прорвемся, завтра будут продолжать уничтожать нас с воздуха.
Бледный Зайчиков, у которого начала гноиться рана, сказал заметно ослабевшим со вчерашнего дня голосом, что он согласен, и они втроем с подошедшим Шмаковым стали обсуждать выбор направления для прорыва, с выходом к Днепру.
Через полчаса все было решено; владевший немецким языком Шмаков пошел к себе в землянку допросить сбросившегося с «юнкерса» бортстрелка, а Серпилин отправился по окопам. Для удобства управления людьми в ночном бою он решил свести все, что осталось в живых, в один батальон и, не теряя времени, занялся этим, тут же, в окопах, делая назначения и указывая пункты сосредоточения перед прорывом. Откладывать еще на сутки было нельзя, а ночь не растянешь – она июльская, короткая. Сведя в роту батальон Плотникова и назначив при этом Хорышева командиром взвода, Серпилин мельком взглянул на освободившегося от своей должности Синцова и приказал ему идти за собой.
Они вернулись на КП, и Серпилин, миновав землянку Зайчикова, заглянул к Шмакову.
Взъерошенный и злой, Шмаков сидел за столом, а напротив него стоял навытяжку высокий молодой немец в форме летчика; он нервно подергивал лицом, словно сгоняя мух. Одна щека у него была бледная, а другая в багровых пятнах.
Конец ознакомительного фрагмента.
Одним из самых ярких произведений о войне считается роман Константина Симонова «Живые и мертвые». Он открывает одноименную трилогию, которая отражает наиболее важные эпизоды Великой Отечественной войны. Писатель показывает войну как трагедию в жизни страны и отдельного человека. Обращает внимание на то, как вся жизнь вдруг делится на время «до» и «после». Константин Симонов был военным корреспондентом и своими глазами видел все происходящее на войне, он вел дневник, который впоследствии и стал основой для романа. Хотя персонажи книги вымышленные, почти у каждого из них есть прототип.
Вместе с главным героем политруком Синцовым читатели наблюдают события с начала войны и до зимы 1941 года, до контрнаступления под Москвой. Синцов вместе с женой приезжает в Симферополь на отдых, но сразу по радио они слышат, что началась война. Кажется, все ее ждали, но при этом известие было неожиданным и шокирующим. А у Синцовых дома, совсем неподалеку от границы, осталась годовалая дочка. В тот же момент приходится взять билеты домой и надеяться, что дочка в безопасности. Начинается война, которая никого не пощадит. Тот, кто всего минуту назад был живым, может вмиг стать мертвым.
Роман написан живым языком и читается быстро, несмотря на описание военных действий и политики. Писатель хорошо отражает не только поведение рядовых солдат, но и говорит о политике руководства. Видно некоторое замешательство, а порой и глупость, неверие, что война может затянуться. Автор старается максимально объективно говорить о происходящих событиях, давать описания историческим личностям. Заметно также, какую неразбериху и панику принесла война в жизни мирных жителей. И все долгое время надеялись, что всё разрешится быстро и легко. Но люди умирали, а немецкие войска шли все дальше, пока, наконец, не пришло осознание, что за победу нужно бороться любой ценой, а она будет непомерно высокой.
На нашем сайте вы можете скачать книгу "Живые и мертвые" Константин Симонов бесплатно и без регистрации в формате fb2, rtf, epub, pdf, txt, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
Последние материалы сайта
Электроника

SFW - приколы, юмор, девки, дтп, машины, фото знаменитостей и многое другое
Крупнейший наркобарон в истории человечества Пабло Эмилио Эскобар Гавирия родился в небогатой семье в 1949 г. Его подростковые годы прошли в малоимущих кварталах города Медельин, где доминировали ультралевые политвзгляды и поддерживали Кубинскую революцию
Техника

Интересные факты о слонах Краткие факты о слонах
Увеличение размеров - одно из достаточно обычных направлений эволюционного процесса. животных-гигантов можно встретить практически во всех классах животных. Самые большие из ныне живущих наземных млекопитающих - слоны. Кроме величины в слоне поражает его
Техника

Расклад таро на отношения с мужчиной
Когда я встречу свою любовь? Что он или она чувствует ко мне? Как он или она относится ко мне? Какое будущее у наших отношений? Есть ли повод для ревности? Пришло ли время для расставания? Эти вопросы волнуют и мужчин и женщин в любом возрасте. Они могут
Техника

Гадание на игральных картах онлайн
В этой статье: Любое гадание на картах можно считать простым и доступным, особенно, если техника расклада не предполагает сложных комбинаций. На 36 игральных картах можно гадать только при условии, что до этого они были не играны и вообще не попадали в ру
Советы
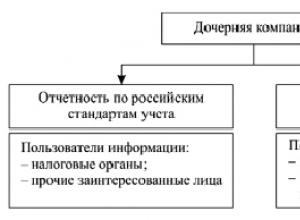
Учет инвестиций в дочерние и ассоциированные предприятия
Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании являются разновидностью финансовых инструментов, однако для их учета предназначены отдельные стандарты: МСФО 27 "Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность" и МСФО 28 "Учет инвестиций в ассоци
Электроника

Аксёненко, Николай Емельянович Николай емельянович аксененко министр путей сообщения
Происхождение * Дата рождения * Место рождения с.Новоалександровка Болотнинского района Новосибирской области. * Гражданство Гражданин РФ Образование * Высшая школа Окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта окончил в 1972 г. Спе